Памяти Варлама Шаламова
Проехать по колымской трассе мне предложил Клуб путешествий Михаила Кожухова. Мне — и тем, кто хотел бы вместе со мной пройти по следам Варлама Шаламова. Не Мальдивы, конечно, но в эти края летят за ощущениями совсем иного рода…

Монумент «Маска Скорби»
Фото: РИА Новости
— Наш самолет совершил посадку в городе трудовой славы — Магадане!
Я не ослышался: это теперь называется так. Ну, да: «Труд в СССР есть дело чести, славы, доблести и геройства» (бурные, продолжительные аплодисменты, усмешка в усы).
Город трудовой славы лежит в низине между сопками и бухтой Нагаева. «Маска Скорби», по замыслу Эрнста Неизвестного, должна была смотреть на этот город, стоя на безжизненном мертво-каменном пространстве склона. Склон, в видах благоустройства, засадили зеленью, саму же Маску (после того как по ее лицу пошла трещина из-за нарушения технологии строительства) покрасили, в простоте, корабельным суриком в темно-аспидный цвет.
Скорбь? Ну не знаю, не знаю. Что-то особо не видать ее тут.
На магнитике с Жириновским старый политический клоун стоит у вагона с табличкой «Майдан — Магадан» в форме проводника, ха-ха. Магнитик покупают.
Мысль о том, что имя города так и осталось синонимом ужаса, местных патриотических струн, видимо, не задевает. Родной край как символ страшной и беззаконной кары — это же круто!
За Жириновского по случаю наступившей свободы тут проголосовали когда-то всем миром (карякинское «Россия, ты одурела» прозвучало именно тогда) — сейчас население подостыло к этой подложной либеральной демократии, но и другой, настоящей, так и не заинтересовалось.
Сам Магадан (может быть, по контрасту с моими ожиданиями) оказался городом вполне живым и жилым, очень советским, но не «убитым». Приметы свободного предпринимательства, салоны и рестораны с экзотическими именами типовым образом разбросаны по улицам с коммунистическими названиями. И как повсюду в России, прошлое протекает через настоящее «нечувствительным образом»…
Это говоря гоголевским языком. Говоря проще, кровавым ужасом собственной недавней истории страна попросту не заморачивается, и здесь, у бухты Нагаева, это особенно заметно.
…Я стою в краеведческом музее поселка Усть-Омчуг (пять часов по колымской трассе и чуть левее по карте) и слушаю рассказ доброй краеведки о жизни города и района.
Жизнь эта вполне разнообразна: в первом зале музея нас ждет рассказ о местной флоре и фауне, потом следует зал, посвященный лагерям, а потом вам расскажут о развитии края — чему, так уж вышло, эти самые лагеря немало поспособствовали.
— Прогресс шел. Негативный прогресс, но шел! — сообщает краеведка. Шаламовский ледяной ад в одной упряжке с графиком добычи олова и урана выглядит исторически оправданным.
— Труд был очень тяжелым, но… — говорит женщина, и в голосе ее слышны государственные нотки. Это «но» у нас всегда наготове; цена за то олово и тот уран нам не зашкаливает. Людей жалко, конечно, но надо —значит, надо!
— Страна нуждалась в восстановлении, — важно изречет шофер Валера на третий день пути…

Добыча золота, Магадан
Фото: Lieberenz / ullstein bild via Getty Images
Валера, суровый ангел-хранитель нашей группы на этой колымской трассе, носит на плече татуировку «Валькирия» (знак воина, как поясняет он сам). Здешние лагеря он знает досконально, коммунистов не любит, этих не любит тоже, в Жириновском разочаровался, и за кого голосовать теперь, не знает. Крутя баранку КамАЗа-вахтовки, Валера степенно рассуждает о том, как тут все это получилось в те годы. Политические, говорит, конечно, были, но ведь не просто же так они сюда попадали?
— Наверное, сказали что-нибудь не то…
И Валера замолкает в глубоких раздумьях об исторической неотвратимости. Сказавших «не то» по-человечески жалко, но что поделать? «Страна нуждалась в восстановлении!»
Восстановлении — чего? Немоты и страха? Восстановлении — после чего? Соловецкой Секирки? Процесса Промпартии? Выматывающей индустриализации и уничтожения крестьянства? Но дискутировать с Валерой я не планировал, да и тошнило меня к тому времени уже самым буквальным образом. Колымские дороги — это… как бы вам сказать… короче, это не совсем дороги… или совсем не дороги.
— Напарник не мог ехать трезвым, боялся, — рассказывает Валера про времена, когда работал «дальнобоем». — Плелся под сорок, одно мучение… А выпивал — ехал нормально!
В придорожных кафе, на стендах — чудовищная статистика здешних ДТП, но лагерное отношение к смерти, видимо, давно проникло в души «вольняшек» и их потомков: привыкли.
— Почему бы не сделать дороги? — притворяясь иностранцем, спрашиваю я Ольгу, нашего «шерпу» в этом походе.
— Зачем? — притворяясь местным начальством, резонно отвечает она.
И впрямь.
Сделать дороги, чтобы что? Проехать от Усть-Омчуга до смертных шахт Бутугычага? Кому это нужно? Шахты давно заброшены — добывать олово без рабов ГУЛАГа стало убыточно, а музея или мемориала тут не предвидится. Колеи заросли, тропы и склоны обильно усеяны ржавыми свидетельствами былого ужаса: кусками колючей проволоки, котелками, скобами… Случайным складом лежит на камнях обувь, сделанная заключенными из кусков шин, скрепленных гвоздями…
Пытаюсь представить себе окрестности современного немецкого Дахау с эдакими концлагерными артефактами, разбросанными по пейзажу, — фантазии не хватает.
Пешая дорога на Бутугычаг (от того места, где кончаются возможности КамАЗа) занимает около трех часов. «Маршрут нетрудный, меньше единички», как уверял перед выходом наш гид Сергей Райзман…
Три часа вместе с нашей самоотверженной группой я продирался сквозь стланик и скользил по осыпи, мечтая догнать Сергея и высказать ему все, что я, тихий российский пенсионер, думаю о профессиональном туризме. Но главные слова в тот день, уже кроме шуток, произнес шестнадцатилетний юноша Федор. Он сказал:
— Здесь нельзя жаловаться!
Да. Этим маршрутом десятилетия напролет шли люди, попавшие в рабство. Шли не в июле с привалами, а колымской зимой под угрозой расстрела. И после 10–12 часов работы в шахтах шли обратно в бараки. Здесь нельзя жаловаться.
Федор прилетел на Колыму с мамой, другие юные участники нашего похода, Соня и Роберт, — с отцом. Они давно живут в Англии, а на каникулы отец пригласил детей сюда.
На мой вкус, это и есть патриотическое воспитание.
«Да ведают потомки православных…»

Бутугычаг
Фото: РИА Новасти
Сегодня, однако, пушкинского Пимена быстро встроили бы в рамки, начертанные Мединским: у нас не забалуешь. Не надо мрачной правды, господа! Этот пессимизм попахивает предательством. Мало ли кто на чей ножичек напоролся в русской истории… Больше гордости, еще больше! Тем и живы «селигеры» и «юнармии», наш патриотический распил и растление малолетних как минимум в переносном смысле…
Федор, Соня и Роберт — снаружи от этого тренда. Они про другое. И если Родине повезет, эти дети ей еще пригодятся.
Краевед Иван Паникаров, десятилетия напролет собирающий свидетельства колымского ада, говорить о патриотизме не умеет. Он, наверное, и не догадывается о том, что именно этим словом называется чувство, определившее его судьбу.
Живет Иван Александрович в Ягодном — месте, известном россиянам как родина Юрия Шевчука. Эти края богаты на имена, и могло ли быть иначе? Первая «оттепель» — почти сплошь дети репрессированных, по всей ширине сталинского произвола, от «кулацкого сына» Твардовского до Окуджавы, Трифонова, Аксенова, чьи родители-коммунисты попали под смертельную раздачу уже в конце тридцатых.
Многие из выживших после поражения в правах оставались жить на Колыме… Трогательный памятник певцу Вадиму Козину во дворике дома, где он доживал свою жизнь, — напоминание о том, как эти места становились родными.
Сам Паникаров, впрочем, приезжий. И даже не из репрессированного рода. Сидел сосед по общежитию, но тот про лагерь особо не вспоминал, отмалчивался; разговорчивее оказался его друг, приходивший в гости… И Паникаров «подсел» на эту тему.
Судьба нашла его на ощупь, случаем: Колыма, в широком и ясном звучании этого слова, стала содержанием жизни.
Слухом земля полнится: к Паникарову потекли письма, документы, фотографии. Самодельный музей, не уместившись в небольшой квартире, перетек в гараж… Выставки, издание книг — все это упрямый паникаровский характер, его осуществленное призвание.
Теперь он стоит в раздумьях у красной черты: не хочется становиться «иностранным агентом». А ему же давали гранты и Сорос, и фонд Мак-Артуров, и Нидерланды — пытались, негодяи, тайком за свои деньги растопить ледяной дворец нашей государственной правоты! Спасибо Путину, этому беспределу положен конец — доллара не получит теперь Паникаров на сохранение памяти о погибших людях и погубленных судьбах!
Только вместе с клеймом предателя.
Преступления в России творятся в открытую, праведные дела — исподтишка. Несколько лет назад неизвестный сотрудник органов передал Ивану Александровичу папки с личными делами заключенных, предназначенные к уничтожению. Сделал он это, разумеется, тайно: спасая бесценные документы и воскрешая имена, сотрудник совершал должностное преступление.
Вдумайтесь: единственное, чем мы можем отблагодарить этого человека сегодня за совестливый поступок, — это спрятать, как партизана, не выдать на расправу государству.
Сильное у нас государство! Мощное, опасное для людей. Страна в полуобмороке, но государство — ух! Приятно полюбоваться.
…Якутия горит, Магаданская область — тоже. Смог висит над безнадежным Сусуманом. На второй день дождь чуть прибил смог — стало немного виднее и еще безнадежнее. Убитые пейзажи вдоль дороги: в поисках золота тут по пятому разу перемывают песок, и ни о какой рекультивации речи нет. Пейзаж просто срыт начисто…
Здесь, в Сусумане, меня настиг вирус, и я на сутки залег в номере — пил теплое с лимоном, глотал антибиотик, спал и в минуты просвета щелкал пультом телевизора.

Сусуман
Фото: Тетерин Варфоломей / Фотохроника ТАСС
— Это настоящая трагедия, — сказал однажды голос в телевизоре. Я напрягся, вслушался. Оказалось, наш пловец в Токио сдал положительный тест на ковид и не сможет принять участия в Олимпиаде.
Да, это трагедия, конечно. А шахты Бутугычага — просто тяжелые условия работы. Не перепутать бы в температурном бреду.
…Ранний выезд на рудник «Днепровский». Тряска, вынимающая кишки, каменное кладбище на горе, безымянные кресты на закате. Номера на них стерлись, и уже невосстановимо, кто лежит под этими камнями, — просто люди, безымянные рабы, умершие от изнурительного труда и холода. Только один крест — с портретом человека и датами его жизни, но и эта табличка привинчена потомками наугад: он лежит где-то здесь, заключенный Cемен Опирайло, осужденный в 1937 году и умерший от холода 18 ноября 1943 года.
Где-то рядом с Семеном Ефимовичем лежит мулла, которого товарищи смогли обманом похоронить по мусульманскому обычаю, — организовали поломку на шахте и отвлекли конвой. Добыча олова снизилась в тот день, и раскрой начальство это страшное преступление, оно стоило бы еще нескольких жизней…
Государственный интерес! Угробив миллионы людей, ископать землю беломорканалами и выгрести из нее уран для шантажа планеты… В этом плане мы в полном порядке и сейчас: продолжаем стоять на своем, шантажируя окрестности и славя сталинский эффективный менеджмент. И не забывая, конечно, прессовать тех, кто посмел взглянуть на вещи иначе.
После фильма Дудя о Колыме один знатный историк выступил с разоблачением его страшной лжи: никакой Серпантинки (следственной тюрьмы и места массовых расстрелов заключенных) не было, оказывается!
Как так? А так: по документам это место называлось иначе! Был Отдельный лагерный пункт «Стан Хатыннах», а Серпантинки не было…
— Ложь! — истошно кричит Ложь и крутит перед нашими глазами своими бесчисленными наперстками.
— Не было и десятков тысяч расстрелянных! — кричит Ложь. Да, расстреляно в системе Дальстроя, по документам, около 12 тысяч заключенных, а вовсе не «десятки тысяч», как написано на плите, которую Паникаров установил на месте казней в 1990-х. (Архивы были закрыты, и цифра писалась по свидетельствам уцелевших…)
— Ложь!
Около трех тысяч было казнено на «Серпантинке» — только на этом клочке земли, где бульдозерами сгребали мертвых, «зачищая» место преступления, где отказывались потом работать старатели: зубы, пули и кости трясло в промывочной машине…
— Ложь! — кричит Ложь.
Придраться к промашке, которую сами и спровоцировали глухой и преступной секретностью, подменить тему, сделать очевидное двусмысленным — и врать, врать в глаза, не останавливаясь… И вот век спустя на Паникарова обрушивается волна ненависти оскорбленных сограждан: зачем он клевещет на страну?
Эта агрессия — от страха перед правдой. Им так проще — блуждать в ментальном мороке среди памятников убийцам в презрении к убитым… Людям привычнее, а государству спокойнее.
Убийцы-то — свои, корпоративно близкие.
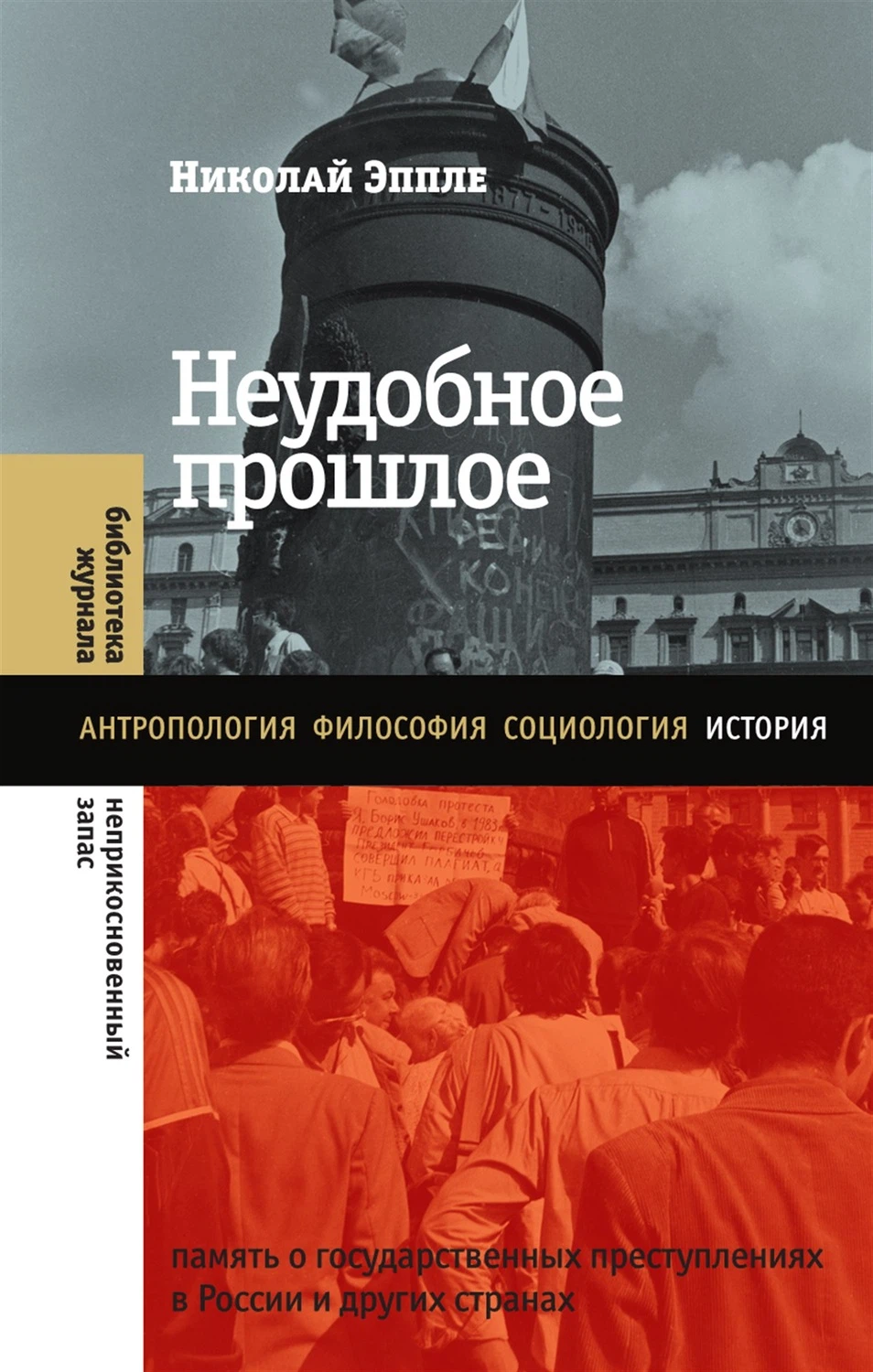
Обложка книги Николая Эппле «Неудобное прошлое»
Книга Николая Эппле «Неудобное прошлое» вышла как будто специально под нашу колымскую экспедицию. Что делать нации со своими скелетами в шкафах? Как сшить себя воедино после ментальной катастрофы, как начать жить снова? Как отрефлексировать свое прошлое — и расстаться с ним наконец? Автор всматривается в зеркала, расставленные для России по всему двадцатому веку…
Идеальной картины не видно, но сравнить есть с чем.
Немецкий опыт нам явно не пригодится — нацию, очарованную фюрером, ткнули лицом в ее собственное кровавое дерьмо, не особо спрашивая согласия тех, кто только что кричал «хайль».
А вот как бы вытащить себя за волосы — самим?
Латинская Америка? Но в рамках этого опыта требуется довести убийц до скамьи подсудимых хотя бы слабоумными, как Пиночета… И это при том, что тамошние «эскадроны смерти» — детский лепет по сравнению с размеренной работой ГУЛАГа, а размеры нанесенной травмы совершенно несопоставимы. Да и не торопятся что-то наши убийцы отдавать власть на честных референдумах…
Испанский рецепт тоже, кажется, не сработает. Потомки фалангистов и коммунистов смогли обняться на камнях общего пантеона спустя десятилетия, потому что были равны и в скорби, и во взаимной ответственности перед погибшими предками… А в нашем случае — какой там пантеон?!
Беспрецедентный террор был развязан большевиками — односторонний, на многие десятилетия. И когда (или если) Россия вернется из обморока, день объявления этого «красного террора», 5 сентября, станет днем национальной скорби в память об уничтожении сословий и целых народов, о срастании идеологической инквизиции с блатарями, о торжестве подонков, об абсолютной человеческой катастрофе и о сломанном хребте нации…

В бараке усиленного режима, Колыма
Фото: РИА Новости
Когда наступит это время, не знаю — пока что все это даже не названо своими именами, и наскоро, сквозь зубы процеженного извинения, больше похожего на «подавись ты», явно недостаточно для того, чтобы потомки стертых в пыль могли обнять бенефициаров этого исторического ада.
Те, кстати, продолжают тут праздновать День чекиста.
Еще жив человек,
Расстрелявший отца моего
Летом в Киеве, в тридцать восьмом.
Вероятно, на пенсию вышел.
Живет на покое
И дело привычное бросил.
Ну, а если он умер –
Наверное, жив человек,
Что пред самым расстрелом
Толстой
Проволокою
Закручивал
Руки
Отцу моему
За спиной.
Верно, тоже на пенсию вышел.
А если он умер,
То, наверное, жив человек,
Что пытал на допросах отца.
Этот, верно, на очень хорошую пенсию вышел.
Может быть, конвоир еще жив,
Что отца выводил на расстрел.
Если б я захотел,
Я на родину мог бы вернуться.
Я слышал,
Что все эти люди
Простили меня. *
Боюсь, на этих основах примирения не получится.
* Стихотворение Ивана Елагина (1918–1987).
Еще недавно казалось: мы готовы встретиться с собственным прошлым, не отводя взгляда… Увы, показалось. Новый век, очередная имперская синусоида — и вот мы опять летим по своему раздолбанному историческому склону — особый путь, ё…! — на вечных саночках собственного величия.
«Обеспечим продовольственную безопасность Колымы!» — обещает строгий единоросс, глядя на город трудовой славы Магадан с высоты своего предвыборного плаката.
Кто угрожает ей на третьем десятке их бессменной власти, здешней продовольственной безопасности? С кем собирается бороться за еду для колымчан этот мужественный мужчина с медведиком на логотипе? Тайна сия велика есть, но что-то говорит мне, что он победит на этих выборах, тем более что никакой другой агитации на магаданских улицах я так и не увидел.
Ну, от добра добра не ищут. Медведик так медведик.
В зловещем «доме Васькова», внутренней тюрьме СВИТЛАГа, стены которой хранят память о кошмарах, не снившихся Стивену Кингу, мерно работает Магаданская областная дума. О самом Васькове, звероподобном хозяине Соловков, чье имя стало символом лагерного ужаса, можно теперь прочитать в воспоминаниях его сына: скромный труженик, хороший хозяйственник… Человек трудной судьбы.
— За что его так?
«Голос сына дрожит. На глазах выступают слезы», — заканчивает свой материал чувствительный корреспондент «Российской газеты».
Национальное примирение — оно такое.
От Данте, по слухам, шарахались современники-флорентийцы: они верили, что он видел ад. Варлам Шаламов, прошедший живьем через настоящий ледяной ад Колымы и сам ставший нашим Вергилием, умер в январе 1982 года в неврологическом диспансере, куда его упрятали подальше от глаз и ушей народа — строителя коммунизма.
Впрочем, народ и не больно-то рвался узнавать про эти круги.
До конца коммунизма было рукой подать, но русская народная амнезия легко пережила и красное знамя, и наступившие вслед за тем новые (недостаточно новые, как оказалось) времена…
«Маска Скорби», обсаженная типовым леском и выкрашенная в дурацкий цвет корабельным суриком, — не более чем объект на балансе города трудовой славы. Задуманная как покаяние, покалеченная, дискредитированная номенклатурным идиотизмом и вписанная в очередное безвременье, она символизирует сегодня наш упрямый незачет по собственному прошлому.
Don’t disturb, please, — предлагает как альтернативу уборке табличка в номере отеля «Магадан». Да-да, запереться — и попросить не беспокоить.